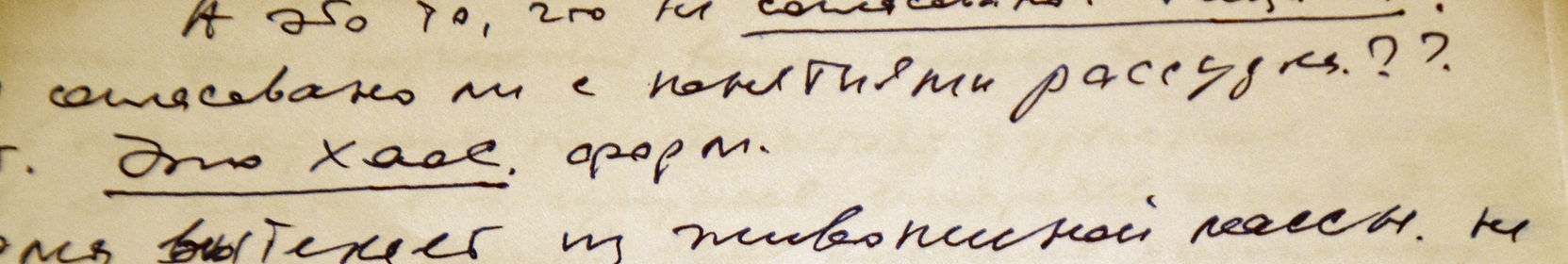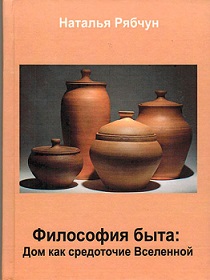Андреас Буллер: Философия следа
Андреас Буллер: Философия следа

В этот настоящий момент именно я (или ты, или он) – все мы, живущие и существующие сейчас, обладаем привилегией «иметь», т.е. хранить, обогащать и развивать «чужие» мысли, которые могут «оставить след» в духовной истории человечества, а могут и не оставить. Но так ли важно для нас «оставить след»? Ведь большинство следов прошлого дошли до нас ненамеренно и случайно. Надо сказать, что человек как существо «настоящего момента» действительно не стремится «оставлять следы», а пытается реализовать себя. И эта его попытка «реализовать себя» часто оставляет следы в истории.
«След» – это не только материальный остаток прошлого, а это сложный, созданный мышлением человека, мыслительный конструкт, включающий в себя целую группу взаимосвязанных целевых акций человека. Задумаемся о том, что понятия следовать, (рас)следовать, (ис)следовать / исследователь, (по)следовать/последователь, а также (на)следовать / наследователь имеют общий корень. На первый взгляд нам может показаться, что эти понятия обозначают различные акции, но в действительности речь идёт здесь об одном и том же действии, в котором человек всегда следует кому-то или чему-то, т.е. становится в прямом смысле слова «следователем», во всех безграничных вариациях этого широкого понятия.
Меня занимает проблема «следов прошлого», которым следует прежде всего историк. В «следах прошлого» он видит не просто «остатки», а «знаки» и «символы». Историк пытается эти знаки понять, объяснить, пытается интегрировать их в мир своих современных знаков, символов и значений. Научная история – это научно организованный процесс «чтения следов». Разумеется, «следы прошлого» позволяют читать себя и ненаучным образом, потому что следы пассивны, неизменны и к тому же многозначны. Их может читать и человек необразованный или, что ещё хуже, человек предвзятый. Следы в этом случае не смогут ему «возразить», не смогут себя защитить. Мы вполне можем иронизировать о попытках «чтения следов» человека недалёкого или поверхностного, но мы не должны забывать о том, что и он обладает исключительной способностью «читать следы». Сама по себе процедура «чтения следов» является феноменальной способностью «существа разумного», которое способно увидеть, познать и понять то, что след в себе скрывает, реконструировав таким образом «более не существующее». Эта уникальная способность человека предполагает, как наличие силы воображения, так и логического мышления, как силы убеждения, так и способности к изложению. И чем ещё является история, если не беспрерывным процессом «чтения следов» прошлого?
Второй блок тем, который меня очень интересует – это проблемы практической философии и, особенно, философии чувств. Человеческая нравственность позволяет себя обосновать не только на основе рациональных законов, как это происходит, например, в этике И. Канта, но и на основе нравственных чувств человека, т.е. таких чувств, как чувство стыда, совести, сострадания. Эти чувства интересовали таких философов, как А. Шопенгауэр и В.С. Соловьёв. Чувства эти скрывают в себе мощнейший потенциал, на них держится всё наше «человеческое» общество, они являются той «смазкой», без которой машина наших общественных отношений давно бы остановилась и окончательно развалилась. Эти чувства не производят никаких материальных ценностей («Карл Маркс, обратите внимание!»), но на них держится всё и вся, что мы называем человеческим или обозначаем как человечность. Без человечности человек перестал быть человеком. И подобное происходило уже в реальности, когда человек во время войн или революций терял свои нравственные чувства, переставая быть человеком. Существенным качеством человека является, всё-таки, не разум, который может быть холодным, жестоким, беспощадным, наглым, расчётливым и преступным, а его нравственные чувства совести и сострадания, которые ни при каких условиях не могут быть бесчеловечными. Наше современное, основанное на принципах разума и закона, общество, к сожалению, недооценивает роль нравственного чувства в социальной жизни человека. Современный человек перестаёт быть существом эмоциональным.
С. А. Смирнов: Моё философское самоопределение
С. А. Смирнов: Моё философское самоопределение

Сергей Алевтинович Смирнов (8.09.1955) – доктор философских наук, проектный аналитик-методолог, эксперт Российского научного фонда, эксперт Российского фонда фундаментальных исследований. Главный редактор гуманитарного альманаха «Человек.RU». Автор многочисленных книг по философской антропологии: Человек перехода (2005), Автопоэзис человека. Философские очерки по антропологии стиха (2011), Форсайт человека. Опыты по неклассической философии человека (2015), Антропологический навигатор. К событийной онтологии человека (2016), Философия человека. Жизнь метода (2017) и др.
Моё философское самоопределение
1. Мои занятия философией так или иначе связаны с проблематикой «философия человека». Речь идет не обязательно о традиции философской антропологии, поскольку термин исторически занят. Речь идет о главном: о поиске человеком своего места в мире. С этим сталкивается каждый человек и все человечество, с онтологическим самоопределением. Заметим, именно поиск места. Человек изначально поисковик, навигатор, ищет себе место в мире. И оно, разумеется, не готово. Свое присутствие в мире человек еще должен осуществить, то есть стать событием этого мира.
Для этого философия человека пытается найти адекватное этому поиску места слово. То есть выстроить адекватный философский дискурс. Но дело в том, что антропология как раз имеет дело с чистой референцией: человек есть то, что и как он говорит о себе. Это в пределе. Поэтому философская антропология блуждает в поиске своего предмета, имея в своем распоряжении ряд таких авторских высказываний о человека – будь то Ницше, или Киркегор, или Хайдеггер, или Шелер, или Бахтин. Что бы ты не сказал о человеке – это будет отдельное авторское высказывание.
А поэтому философия человека в поисках оснований либо сваливается в чистую метафизику, в дурную онтологию, в которой человека нет, а есть разговоры о его сущности, а значит не о нем самом, ответственном за свое бытие, а о тех силах, которые его детерминируют, либо плутает в весьма редуцированных версиях разного рода эмпирических определений. Или ввергается в отказ от всяких поисков и определений, в апофатику, в которой исчезает всё – и человек, и бытие, и мир. Но авторы этого апофатизма почему-то себя оставляют в этом мире. Они при этом никуда не ускользают.
Поэтому возникает проблема преодоления разрыва между онтологией и антропологией. С одной стороны, философская антропология должна быть укоренена в онтологии, то есть, речь идет об онтологии человека, его истоке и горизонте, смысле его бытия. С другой стороны, сама онтология не может строиться как метафизика, как абстрактное учение о границах, принципах и пределах. Она должна быть наполнена человеческим содержанием. Построение такой онтологически укорененной антропологии и является моим основным занятием. Все остальное – приложения и развертывания этой рамочной темы.
2. В этой связи мои антропологические исследования выстраиваются в рамках так называемой неклассической парадигмы, согласно которой целью антропологических поисков является не выстраивание очередной концепции о сущности человека, а выработка разного рода концептов и методов навигации человека в жизни.
Этот неклассический антропологический дискурс предполагает отказ от поиска готовой природы человека, отказ от рассмотрения его как объекта, вообще отказ от рассмотрения как стратегии. Не надо человека вообще рассматривать, строить, конструировать, изучать, формировать, куда-то вести. Это тупик.
Ему надо дать онтологическую возможности стать, быть, состояться в этой жизни. А значит – создавать условия для самоопределения и навигации.
Поэтому не имеет смысла вообще выискивать некую детерминирующую его сущность, субстанцию и описывать человека в категориях готового объекта.
Тогда онтология человека становится опытом построения антропологической навигации со своим методом, ключевыми опорными точками (реперами), концептуальным каркасом, инструментарием. Таковым может быть словарь, состоящий из таких реперов, как онтологическая опора, онтологический исток, предельный горизонт, энергийный движитель, место, путь, навигация.
3. В этой связи предлагается версия такой антропологии – событийная онтология.
Такая онтология человека развертывается через концепт событийности, задающий базовый контекст рабочей онтологии человека как антропологической навигации.
Концепт события рассматривается в роли концептуального медиатора, преодолевающего крайности абстрактной онтологии, с одной стороны, и излишне прагматизированной антропологии, с другой стороны.
В событийной онтологии преодолевается метафизика абстрактного человека и неукоренённость антропологических изысканий. Онтология долгое время находилась в тисках абстрактной метафизики, представляла абстрактное бытие, лишённое человеческого присутствия. А антропология, в свою очередь, ратуя за человека, представляла его лишённым бытия, его истока и смысла, представляла его частичного, недоделанного, не целостного, недотыкомку.
Опыт событийной онтологии в своё время проделывали Хайдеггер и Бахтин, каждый по-своему. Каждый решал проблему онтологического укоренения антропологии, с одной стороны, и очеловечивания бытия, с другой стороны, вводя концепт событийности. У Хайдеггера это случилось уже после «Бытия и времени». А у Бахтина сразу, в его «Философии поступка».
4. Если так, то необходимо вырабатывать базовый метод для событийной онтологии. Таковым выступает навигация как метод.
В рамках данной онтологии выстраивается метод навигации как метод проторивания Пути и оснащения того, кто идёт по пути, составляя навигационную карту-путеводитель. Работа над методом навигации предполагает в таком случае не поиск набора категорий, с помощью которых необходимо ухватить убегающего зверя (человека), а построение точек-ориентиров и опор, с помощью
которых можно идти по незнакомой местности, прокладывать путь к самому себе, собственной личности.
Такая онтология человека может быть такой мета-антропологией, которая помогает отстраивать карту-путеводитель. Человек несет онтологичесую ответственность за своё бытие, то есть за свой путь (поскольку путь и есть Крест), который становится «нудительно», по Бахтину, онтологически укоренённой заботой о себе, практикой заботы. Без работы по составлению онтологического навигатора проблематично вообще говорить о человеке и понять то, что означает поиск места.
При этом антропологическая навигация отличается от привычного ориентирования. Отличается тем, что при ориентировании человек опирается на готовые маркеры и знаки, существующие в культуре. В мире для него эти знаки и реперы уже расставлены. Как по звездному небу и розе ветров ориентируется человек на природе, так он ориентируется и в культуре по уже представленным ему знакам-ориентирам: ценностям, образцам поведения, представлениям о добре и зле и т.д. Также он ориентируется и в любой сфере деятельности – в науке, искусстве, опираясь на накопленные знания, включаясь в профессиональную традицию.
В отличие от ориентирования в культуре, антропологическая навигация предполагает проторивание, простраивание маршрута, в котором нет готовых ориентиров или они оказались стёртыми, забытыми, поставленными под вопрос. Навигация в этом случае наиболее актуальна в ситуации культурной дезориентации, в которой необходима коррекция или смена ориентиров, восстановление опор, поиск и восстановление своего места в мире, выстраивание заново всего хронотопа человека.
Но если у путника, идущего по незнакомой местности, есть все же либо карта, по которой он может ориентироваться, либо есть внешние ему знаки-ориентиры, то для человека по жизни, которая по определению является незнакомой территорией (Зоной), нет и этой карты. Не может быть карты твоей жизни, поскольку это твоя жизнь и тебе ее предстоит прожить, параллельно выстраивая маршрут и составляя карту самонавигации, ведя дневник. В этом принципиальная сложность антропологической навигации: движение по территории жизни при отсутствии готовой карты.
Для современной же ситуации человека как раз характерен сдвиг от ориентирования с опорой на готовые знаки и символы, ценности и нормы – к навигации как проториванию маршрутов. Этот акцент актуален в более открытых, не ставших хронотопах, поскольку человек испытывает ситуацию онтологической дезориентации.
5. А потому в рамках антропологической навигации сама понятийная и терминологическая работа смещает базовые акценты. Словарь концепта составляется в таком случае из терминов и понятий, играющих не роль определителей, а роль указателей и ориентиров. Как писал Бибихин о Витгенштейне – происходит смена аспекта. То есть смена оптики требует и смены способа понятийной работы.
С одной стороны, тогда предъявляется определенное требование к содержанию словаря концепта. Это значит, в концепте отсутствуют такие категории, как сущность человека, человек как объект или субъект, природа человека, субстанция, процессы в человеке. Это возможно, но тогда мы человека будем описывать в традиции естественнонаучного объектного исследования-описания.
На первое место выходят такие понятия-ориентиры, как путь, место, горизонт, исток, энергия движения, навигация, событие, жизненное самоопределение, жизненная траектория, биография, автобиография, карта пути, карта личности, автор, антропопрактики заботы о себе, антропопрактики личностного строительства, репертуар антропопрактик и т.д.
Эти понятия играют роль не ухватов и определителей, а роль указателей в пути. Как для водителя в дороге: для него важен не сам по себе указатель, а то, куда он показывает, и каково расстояние до места назначения.
Тогда онтология человека может быть понята как карта Пути, на которой помечены событийные места, из которых и составляется его автобиография. А понятия выполняют роль указателей, показывающих направление движения, способ движения мысли и действия.
По поводу движения человек составляет карту пути (варианты – ментальные карты, карты личности, картоиды). Эта ментальная карта выступает в роли навигатора, не будучи системой и учением о бытии человека. Поэтому необходим не просто набор терминов, словарь, а необходима смена роли этих терминов. Антропологические термины не несут в себе субстанциальности и конститутивности. Они сами по себе пусты, поскольку показывают не себя, а иное – «путь в», «движение к», направление, способ движения, интенцию.
Такие категории-концепты, как личность, трансцендирование, экзистенция, событие, синергия в онтологии человека должны иметь иной статус, нежели тот, который имеют термины в классических онтологиях. Они становятся регулятивными, а не конститутивными.
Терминологический каркас рабочей онтологии человека выступает в таком случае в виде регулятивного, нормативного каркаса для построения антропологического дискурса при осуществлении антропопрактики заботы в процессе навигации человека.
6. Практики навигации предполагают в свою очередь необходимость введения концепта построения так называемых жизненных траекторий (далее – ЖТ). Здесь антропология испытывает серьезный концептуальный дефицит. Жизненные траектории могут быть представлены в таких культурных формах, как исповедь, биография, жизнеописание, автобиография, самоотчет, дневник самонаблюдений, путеводитель и др. Жанров таких много. Но либо ими занимается литературоведение, либо историография. А философский концепт автобиографии как навигации до сих пор не выстроен, несмотря на то, что эту тематику ввели давно еще Дильтей и Бахтин.
Для развития концепта построения ЖТ и необходима специальная концептуальная работа с таким жанром построения ЖТ, как автобиография. Здесь нужно вырабатывать правила, принципы, на основании которых автобиография составляется как «способ самообъективации личности» и удержания смыслового целого автора, как писал Бахтин. Это правило авторства, правило авто(само)детерминации, правило событийности, правило вертикальной связности и нормы, правило горизонтальной связи, правило неравенства самому себе. Эта проблематика выливается в отдельное направление и метод, в биографический метод, в метод просопографии (личностные истории).
7. Тогда надо обсуждать и разрабатывать разного рода практики и инструменты такой навигации, связанной с построением ЖТ, личностных маршрутов, автобиографий. Таким может быть антропоидный картоид (термин географического картоида в свое время ввел Б. Родоман). Он совмещает в себе качества дневника, карты, исповеди, путеводителя.
Эта работа уже совсем конкретная. Она проделывается на антропологических семинарах-практикумах. Она вполне реальна и доступна и школьникам, и студентам, и взрослым.
Картоид выступает важной частью оснащения человека в его личностной навигации. Так или иначе каждый человек это делает, его составляет, то есть производит разного рода эго-тексты, когда он пишет дневники, ведет переписку, как-то осмысляет свою жизнь. Но проработанность, масштаб, детализация и осмысленность, разумеется, будет всякий раз разной.
Антрополог, в отличие от обычного человека, занимается этим профессионально. Например, так же, как занимается спортивным ориентированием или выживанием в незнакомой местности тот или иной тренер, проводник, спортсмен, специалист по выживанию.
8. Для содержательного разворачивания практики антропологической навигации необходимо далее выстраивать концепт и репертуар антропопрактик заботы. Для построения этого концепта надо вводить свою топику: такие топы, как онтологический исток заботы, предмет заботы, дискурс заботы, субъект заботы, практика заботы.
В репертуаре антропопрактик заботы надо выделять разные практики такой заботы. В нём выделяются такие типы практик, как практики агона, мимезиса, эпистрофе, метанойи, автопоэзиса. Фактически этим занимался М. Фуко в конце жизни, разрабатывая проект «практик себя» в «Герменевтики субъекта». Это же постоянно обсуждает П.Адо, описывающий античную философию не как историю учений, а как постоянную и разнообразную духовную практику.
9. Отдельным занятием я бы выделил мой опыт описания особой антропопрактики – автопоэзиса. На опыте поэтического творчества разных поэтов я пытался описать практику поэта, отвечая на вопрос – что человек делает, когда пишет стихи? Что с ним происходит? Есть такое понимание, что он переживает опыт преображения, используя свой арсенал поэтических средств. Здесь обсуждается проблема автора в явном, чистом виде, проблема его творения – когда в человеке собственно и рождается он как автор собственной судьбы. Но для этого он должен отдать в жертву себя «ветхого», себя слабого. Как это обсуждает Лев Выготский в своем «Гамлете».
10. Если опрокидывать в целом всю антропологическую проблематику на ситуацию человека в настоящее время, то я бы ее охарактеризовал как ситуацию онтологической дезориентации.
Она во многом связана с соблазном, который человек испытывает при внедрении умных технологий в повседневность. Он теряет те самые ориентиры и опоры. И это отдельное направление моих работ, связанное с исследованием и диагностикой ситуации человека, диагностикой ситуации на границе, между человеком и машиной, человеком и нечеловеком, естественным и искусственным, жизнью и смертью. А внедрение умных технологий в настоящее время прежде всего поставило по-новому вопрос об онтологических границах человека как сущего – что он есть как сущее и где пролегает граница между человеком и иным ему сущим? Человек же, испытывая соблазн, все более поддается так называемому тренду жизненного аутсорсинга, отдавая умному устройству те функции и работы, которые проделывал ранее сам. Эта передача работ Другому означает в пределе отказ от самого себя – в пользу Другого. Тем самым ставится вопрос о границе – до каких пределов человек будет отдавать работы умному устройству, преодолев которые он сам в итоге исчезнет?
Здесь как раз актуальной становится проблема плавающей границы, фронтира. Граница между человеком и иным ему поплыла, перестала быть фиксированной и статичной. Она стала прозрачной, проницаемой, плавающей.
11. Следствием изучения такой ситуации дезориентации является практика проведения гуманитарной экспертизы, которая своим предметом имеет не устоявшуюся норму и плавающую границу, поскольку привычные нормы перестают работать. Это то, чем занимался покойный Б.Г.Юдин. Он пытался развести этическую и гуманитарную экспертизу. Но на практике это пока слабо получается. При проведении разного рода экспертиз мы неминуемо сваливаемся в этическую экспертизу, стремясь защитить человека, думая о его безопасности и т.д. Но в связи с тем, что защищать становится все сложнее. Сам человек постоянно переходит привычные нам онтологические границы, а потому на повестку встает уже иного типа экспертиза, связанная с перенормированием и пересмотром базовых опор и ориентиров.
12. Следствием антропологической навигации выступает и новое приложение – это разработка и проведение разного рода форсайтных исследований, гуманитарных и антропологических форсайтов. Поскольку в практике навигации чреватым и в принципе проблемным становится будущее (в отличие от традиционных эпох, в которых будущее было предсказуемо и прогнозируемо). Теперь же будущее принципиально не прогнозируемо и не выводится из прошлого. Его просто нет. Оно конструируется в настоящем, точнее, конструируется желаемый образ будущего. Поэтому начинают разрабатываться разного рода методы и инструменты, связанные с конструированием образов будущего (аналитика трендов, сценирование, выслушивание «слабых сигналов», выявление «диких карт», джокеров, построение дорожных карт и проч.).
Но если в случае с технологическими форсайтами эта практика худо-бедно наработана, то в случае с будущим человека дело обстоит крайне скверно. Опять же потому что форсайт человека связан с ним самим, с автором форсайта.
13. Приложениями и ответвлениями в моих исследованиях выступают работы по городской антропологии, антропологии пространства, антропологии образования и др.
Чья хата с краю. Рецензия на книгу Посредственность. Литературная газета. 2010
Чья хата с краю. Рецензия на книгу Посредственность. Литературная газета. 2010
Чья хата с краю?
Посредственность как социальная опасность: Сборник. – М.: Магистр, 2011. – 112 с. с портр. – (Серия «Современная русская философия»). – 500 экз.
Помните слова Януша Корчака – «Бойтесь равнодушных…»? Обычно посредственность представляют как нечто «среднее», «ни то ни сё», при этом не только отождествляя её с «золотой серединой» Аристотеля (что не соответствует действительности), но и считая гарантией от социальных потрясений – что не подтверждается анализом исторических событий, в том числе и произошедших в прошлом веке на нашей земле. Автор работы, давшей название сборнику, Ольга Седакова рассказывает о том, как однажды видела спектакль «Собачье сердце» в Эдинбургском театре и «впервые я почувствовала, что стихией, в которой всё разворачивалось, было хулиганство: хулиганство как исторический феномен… Феномен хулигана, как говорят историки, возникает каждый раз, когда кончается аграрная цивилизация и люди из деревни приходят в город. Когда происходят такие сдвиги, огромные массы людей вырываются из одной культуры и не успевают приобщиться к новой, городской». Посредственность верна лишь себе, и только себе, не ставя никаких глобальных задач, тем более связанных с функционированием общества.
Статья опубликована в «Литературная газета» №51 от 15.12.2010 в рубрике «Книжная дюжина»
Адрес в Интернет: http://old.lgz.ru/article/14854/
Чернявский А. Новая рациональность. Рецензия на книгу Седаковой О. Богослов.ру. 2012
Чернявский А. Новая рациональность. Рецензия на книгу Седаковой О. Богослов.ру. 2012
«Новая рациональность» в христианском богословии (по следам книги Ольги Седаковой «Апология разума»)
Чернявский Александр Леонидович
В книге Ольги Седаковой «Апология разума» о новой рациональности говорится по большей части в контексте поэзии, хотя иногда автор также иллюстрирует свою мысль примерами из святоотеческой литературы. Александр Леонидович Чернявский в данной публикации предлагает подумать о новой рациональности и в контексте богословия, которое является не менее интересным сплавом откровения и рационального мышления, чем поэзия.
В своей книге Ольга Седакова полемизирует с преобладающим в наше время пониманием разума. В этом понимании, начало которому было положено в эпоху Просвещения, разум, рациональное противопоставляются, с одной стороны, чувству, а с другой – «всему чудесному, тонкому, волшебному, невыразимому»[1], с чем мы встречаемся в жизни. Что же касается религии, то разум обычно противопоставляется откровению. Против такого плоского понимания разума возражал Сергей Сергеевич Аверинцев.
Книга Ольги Седаковой составлена из написанных в разное время работ, так или иначе имеющих отношение к теме «новая рациональность». В книге много глубоких и тонких наблюдений, но, пожалуй, только в заключительной работе (об Аверинцеве) представление о новой рациональности рассматривается более или менее систематически. Однако определить эту рациональность нелегко. Например, С. Аверинцев говорил «о положительном уме, об ordosapientiae (уровне мудрости), об уме, который погружен в полноту человеческой реальности, соединен с сердцем и с чувством, сотрудничает с совестью и волей и связан с восприятием Целого, мудро и таинственно устроенного»[2]. В этом определении-описании, как и в ряде других, новая рациональность предстает скорее как отрицание расхожего понимания рациональности, как нечто, лишенное недостатков «обыденного ума». Как этот новый разум соединен с сердцем и с чувством, как он сотрудничает с совестью и волей, остается не вполне ясным.
Тем не менее, особо подчеркнуты две конкретные черты в представлении С. Аверинцева о новой рациональности. Во-первых, она призвана создавать среду, в которой возможно понимание, т.е. подлинное общение. Во-вторых, она связана с восприятием «Целого», в частности, с отказом мыслить «бинарными оппозициями», полярность которых часто иллюзорна.
В книге «Апология разума» о новой рациональности говорится по большей части в контексте поэзии (хотя иногда автор иллюстрирует свою мысль примерами из святоотеческой литературы). Стоило бы подумать о ней и в контексте богословия. Ведь богословие – это не менее интересный сплав откровения и рационального мышления, чем поэзия. Но для этой цели приведенное в книге описание новой рациональности не совсем удобно. В поисках более удобного описания сделаем шаг назад и обратимся к «классике». Заслугу Аверинцева Ольга Седакова справедливо видит в том, что он начал говорить о новой рациональности именно в России, которая традиционно противопоставлялась Западу как иррациональное (широта души, интуиция, мистика) рациональному (холодному разуму и логике). Не удивительно, что на Западе о новой рациональности заговорили раньше Аверинцева. Например, уже в «Систематической теологии» Пауля Тиллиха обоснованию того, что общепринятое противопоставление разума и откровения есть результат узкого понимания разума как некой «технической функции», посвящен специальный раздел[3].
Однако первым, кто ввел термин «новая рациональность» (точнее, «новый рационализм» – как противопоставление рационализму Просвещения), был, вероятно, Альберт Швейцер. «Я имею смелость сообщить нашему поколению, – пишет он в 1930 г., – что оно не должно думать, будто с рационализмом покончено, потому что рационализму прошлого пришлось уступить место сначала романтизму, а затем так называемой «реальной политике», которая теперь господствует и в духовной сфере, и в материальной. Пройдя через все безумства этой всеобщей реальной политики и погружаясь вследствие этого все глубже в несчастья как духовные, так и материальные, наше поколение обнаружит наконец, что ему не остается ничего другого, как довериться новому рационализму (курсив мой – А.Ч.), более глубокому и более действенному, чем прежний, и в нем искать спасение»[4]. Далее мы будем опираться на те характеристики новой рациональности, которые не раз отмечает и подчеркивает в своих работах Швейцер. Конечно, такой выбор произволен. Но с чего-то надо начинать.
Только в наше время, после всех «прорывов» в философии, естественных науках, историческом знании и психологии, мы смогли убедиться, что любое накопление знаний мало приближает нас к пониманию таких реальностей, как мир, жизнь, человек. И чем больше мы размышляем о них, тем более загадочными они нам представляются. Поэтому «величайшее знание – это знание того, что мы окружены тайной»[5]. То, что мы знаем, ничтожно мало по сравнению с тем, чего мы не знаем, и никакие новые знания не дадут ответа на вопрос о смысле нашего существования. Понимание этих двух обстоятельств – первая отличительная особенность новой рациональности.
В поисках смысла разум приходит к представлению о Боге как высшей реальности, бесконечной и абсолютной, и к утверждению, что между Богом и человеком есть связь. Многие люди не только мысленно соглашаются с этим утверждением, но и ощущают эту связь в мистическом опыте. А это, в свою очередь, порождает некоторые более конкретные представления о Боге и о связи между Богом и человеком – богословские учения. Вторая отличительная особенность новой рациональности в том, что она признает правомерность и даже необходимость мистики, но приемлет только такую мистику, в которой мистический опыт может быть описан в тех же терминах, в которых мы описываем и другие явления нашей духовной жизни. За пределами новой рациональности остается мистика, в которой этот опыт описывается как необычное экстатическое состояние, сущность которого невозможно адекватно передать словами и которое достигается, как правило, с помощью специальных психо-физических приемов. Чтобы пояснить это различие, нам придется немного забежать вперед и привести богословские примеры. Переживание причастности Богу через Христа как выразителя божественной воли к любви (Швейцер) – это мистический опыт, лежащий в русле новой рациональности, потому что о любви, о которой говорится в Евангелии, мы можем судить по аналогии с нашим собственным опытом. Созерцание Фаворского Света в исихазме – мистический опыт, лежащий за пределами новой рациональности. При его описании подчеркивается, что созерцаемый свет – не физический, что созерцание ощущается как некое соединение с этим светом, и что оно оказывается возможным только в результате особой духовной подготовки («умного делания»)[6].
Разумеется, говоря, что некий мистический опыт, по нашему мнению, находится за пределами новой рациональности, мы тем самым никоим образом не отрицаем его реальность и не считаем всего лишь иллюзией сознания.
Как соотносятся представления о новой рациональности Швейцера и Аверинцева? Кажется, что оба они говорят примерно об одном и том же, хотя и в разных терминах. Но есть четыре момента, по поводу которых можно сказать что-то более конкретное.
Во-первых, Швейцер (как и Седакова) трактует понятие «мистика» шире, чем Аверинцев, который понимает под мистикой только ее «экстатическую» разновидность[7].
Во-вторых, Швейцер и Аверинцев совпадают в своем отношении к научному знанию. Считая научное знание недостаточным, оба они тем не менее признают за ним не только практическую, но и духовную ценность. Отмечая присущее научному знанию критическое начало, Аверинцев видел в нем «инструмент сопротивления обыденной (т.е. мутной) логике и «бытовым понятиям»[8]. Для Швейцера же оно было образцом духовной трезвости. Вот как описывает Швейцер свой опыт изучения естественных наук на медицинском факультете: «В таких областях знания, как история и философия, …аргументация от факта никогда не может добиться …окончательной победы над искусно построенным суждением. …вынужденный вновь и вновь наблюдать эту драму и иметь дело с людьми, утратившими всякое ощущение реальности, я испытывал чувство подавленности. Теперь же я неожиданно оказался в другом мире …среди людей, считавших само собой разумеющимся, что каждое утверждение нужно подтверждать фактами». Думаю, что и Швейцер, и Аверинцев, относясь с уважением к фактам, согласились бы со следующим утверждением: если далеко не все мысли о Боге, мире и человеке могут быть подтверждены фактами, то все они не должны противоречить фактам. Как мы увидим ниже, именно «неудобные» факты послужили стимулом для богословских размышлений Швейцера.
Третья точка соприкосновения – это отношение к идее Целого. Здесь Швейцер и Аверинцев расходятся. Для Аверинцева и для Седаковой, как мы видели, восприятие Целого – одна из главных отличительных черт новой рациональности. В качестве примеров Седакова приводит миросозерцание Гете и Пастернака. И тот, и другой воспринимают жизнь как некое мистическое целое, и для Пастернака это мистическое переживание каждый раз становится потрясением, ощущением редкостного счастья[9]. Но в духовном отношении к жизни есть два полюса: эстетический, когда мы переживаем таинственную глубину, силу и красоту жизни, и этический, когда мы с не меньшей силой переживаем неправду жизни. И возникает сомнение: а не свидетельствует ли это радостное восприятие жизни как целого всего лишь о преобладании эстетического начала над этическим?
Швейцер принципиально отказывается соединять несоединимое в неком Целом – как в мысли, так и в мистическом переживании. «Мир …являет нам ужасную драму воли к жизни, расколотой в самой себе. Одна жизнь поддерживает себя за счет другой; одна разрушает другую. Только в мыслящем человеке воля к жизни начинает понимать другую волю к жизни и хочет быть солидарной с ней. Но эту солидарность он не может осуществить полностью, ибо и человек подвержен необъяснимому и ужасному закону, по которому он должен жить за счет другой жизни и вновь и вновь оказываться виновным в разрушении жизни и причинении ей вреда». И, в отличие от Пастернака, его мистическое переживание «единства со всей жизнью, наполняющей мир» не устраняет этого раскола. Каким контрастом с радостным настроением Пастернака звучит признание Швейцера: «Лишь в редкие моменты я бываю по-настоящему рад тому, что живу»[10]!
В-четвертых, новая рациональность Швейцера – это не только общий взгляд на мир и на жизнь. Швейцер делает то, чего не делает Аверинцев: конкретизирует свои представления о новой рациональности применительно к христианскому вероучению. Дело в том, что новые факты, обнаруженные при изучении синоптических евангелий, вынуждают Швейцера по-новому подойти к учению о Христе как о Спасителе. В 1892 г. Иоханнес Вайс выступил с утверждением, что исторический Иисус ожидал наступления Царства Божьего в результате эсхатологической катастрофы в самом ближайшем будущем, и что именно так понимали его весть ученики. Швейцер пришел к этому выводу самостоятельно два года спустя, во время учебы на первом курсе теологического факультета, и в дальнейшем существенно развил и дополнил выводы Вайса. Главный вклад Швейцера состоит в том, что он показал, как непредвиденная задержка наступления Царства вынуждала уже апостола Павла, а после него автора Евангелия от Иоанна и св. Игнатия Антиохийского переосмысливать представления о спасении, которые сложились у первых трех евангелистов на основе дошедшего до них устного предания.
Чтобы понять, в чем заключалась новизна богословской мысли Швейцера, нужно сказать хотя бы несколько слов о ее контексте. С конца XIX в. в протестантской среде появляется понимание того, что христианство переживает кризис: язык эллинистической культуры начала нашей эры, на котором излагается христианское вероучение, современным миром уже не воспринимается, и потому сфера влияния христианства и его возможности воздействовать на окружающий мир стремительно сокращаются. Возникает идея о необходимости переосмыслить христианское учение о спасении на языке современной культуры. При этом предполагается, что истина христианства остается неизменной во все времена, однако в каждую новую эпоху форма, в которой эта истина выражается, несет на себе отпечаток мировоззрения эпохи.
Результаты Швейцера не просто хорошо вписываются в этот ход мысли – они прямо-таки вынуждают к нему. Но для того чтобы современная интерпретация христианства оставалась христианством, необходимо одно условие: она должна объяснять, почему именно Иисус из Назарета, образ которого сохранило для нас Евангелие, является Спасителем, и в чем состоит спасение, которое он принес. И вот здесь выводы Вайса и Швейцера оказываются очень жестким фильтром, через который не проходит не только подавляющее большинство современных интерпретаций христианства, но и традиционная христология, согласно которой Иисус – это Богочеловек, соединивший в одном лице божественную и человеческую природы[11].
Например, в знаменитой программе «демифологизации христианства» Рудольфа Бультмана значение Иисуса определяется не тем, что он возвестил о наступающем Царстве Божьем, о себе как о его будущем главе и ради этой вести пошел на крест, а тем, чтó Бог хотел нам сказать «событием Христа» – его крестной смертью и возникновением в результате нее веры в воскресение. А сказать он хотел, что отныне мир изменился, что грех уже не имеет прежней неограниченной власти над человеком, и потому каждый должен решить: основывать ли ему свою жизнь на собственных достижениях в сфере видимого мира или целиком положиться на Бога и стать тем самым свободным от мира. Разительное несоответствие между эсхатологической проповедью евангельского Иисуса о Царстве Божьем и тем значением, которое Бультман придает «событию Христа», подрывает доверие к его демифологизированной интерпретации христианства.
Понятно, почему на протяжении всего ХХ в. как протестантские, так и католические ученые-новозаветники (и Бультман в их числе) пытались опровергнуть выводы Вайса и Швейцера. И только к концу века с этими выводами согласилось большинство ученых[12].
Отличительная особенность интерпретации христианства самим Швейцером состоит в том, что принцип, согласно которому понимание спасения зависит от мировоззрения эпохи, он применяет и к самому Иисусу. В представлениях исторического Иисуса о спасении и о себе как Спасителе есть черты, обусловленные эсхатологическими чаяниями израильского народа. Это ожидание наступления Царства Божьего в результате близкой эсхатологической катастрофы и представление о себе как о Мессии, которому в этом событии, а также в самом Царстве принадлежит ведущая роль. Но в своей сути его представление о Царстве Божьем как о царстве справедливости и добра и его притязание на роль Спасителя, наделенного соответствующей властью, остаются в силе и в наше время, хотя ожидаемое им Царство не наступило.
Согласно Швейцеру, мы признаем Христа Господом, т.е. признаем над собой его власть, потому что его личность и его слова действуют на нас с неотразимой силой. Христос говорит, что в Царство Божье войдут, с одной стороны, нищие[13] и скорбящие, а с другой – кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы; что лишь тех, кто накормил голодного, напоил жаждущего, принял странника, одел нагого, посетил больного и навестил заключенного, он признáет своими в будущем Царстве; что мы должны любить врагов, делать добро ненавидящим нас, благословлять проклинающих нас. И мы верим, что именно такова воля Бога, что Бог хочет, чтобы мы были такими, хотя эта наша вера рационально не объяснима. Сегодня можно констатировать, что все попытки обосновать эти высочайшие нравственные требования с биологических, социальных, психологических или философских позиций полностью провалились.
Швейцер определяет христианство как мистику единения с Христом, причем мистика понимается в русле новой рациональности: «…это наша общая принадлежность Христу как нашему Господу, осознаваемая мысленно и реализуемая в нашем духовном опыте»[14]. У этого определения христианства есть важный подтекст – утверждение о невозможности приблизиться к Богу путем интеллектуального созерцания мира как целого. В мире Бог представляется таинственной творческой силой, в человеке он раскрывает себя как этическая воля. «Бог, которого я познаю, размышляя о мире, и Бог, которого я ощущаю как этическую волю, не совпадают. Они составляют одно целое, но каким образом – этого я не понимаю»[15]. Но из этих двух знаний о Боге решающим является то, которое дается внутренним опытом. «В Иисусе Христе Бог явил себя как воля к любви. В единении с Христом единение с Богом достигается в единственно доступной нам форме»[16].
Спасение, по Швейцеру, не в продолжении жизни после смерти, а в том, что исполняя волю Бога в соответствии со словами Христа, христиане достигают духовного освобождения от мира. При этом они верят, что цели Бога относительно мира и человека так или иначе будут достигнуты. Это представление о спасении в сжатой форме изложено в заключительных строках его книги «История изучения жизни Иисуса»: «Мессия, Сын человеческий, Сын Божий – для нас это только иносказания, представляющие исторический интерес… Он приходит к нам неизвестным и безымянным, как некогда по берегу озера пришел к людям, которые не знали его. Он обращается к нам с теми же словами: «Следуйте за мной!» и ставит перед нами задачи, которые он должен решить в наше время. Он повелевает. И тем, кто подчиняется ему, – и мудрым, и простодушным – он явит себя в мире, труде, борьбе и страдании, через которые они пройдут рука об руку с ним, и как невыразимую тайну, они своим опытом постигнут, кто он»[17].
Если Швейцер формулирует свои представления о спасении через Христа лишь в самых общих чертах, то в богословии Пауля Тиллиха ставится и решается грандиозная задача переосмысления на языке современной культуры всех аспектов христианского учения о спасении. Мы остановимся только на тех элементах его богословской системы, в которых усматриваются отмеченные выше черты новой рациональности.
Заметим прежде всего, что Тиллих в принципе согласен с Бультманом в том, что буквальное понимание Библии уже невозможно, и что библейские мифы необходимо истолковать в современных религиозных терминах. Однако в это утверждение он вносит существенную поправку: провести такую «демифологизацию» до конца не удается. Поэтому религиозный язык всегда будет языком символов и мифов. Поясним эту мысль на примере христианского учения о грехопадении. По Тиллиху, человек в своей сущности – это сохраняющее единство с Богом и наделенное свободой, но конечное и еще не раскрывшее свои потенциальные возможности существо. Грехопадение – это ставший возможным благодаря свободе отказ человека от своей сущности ради реализации себя в существовании. В результате человек опускается на более низкий уровень бытия, на котором он оказывается отчужденным от Бога и от своей сущности. С одной стороны, грехопадение нельзя мыслить как событие, произошедшее в какой-то момент времени в прошлом: ведь время, как и пространство, – атрибут нашего, уже падшего мира. С другой же стороны, само слово «падение» предполагает наличие двух состояний: «до» и «после» падения, т.е. наличие времени. Поэтому «падение» – это символ, т.е. образ, взятый из видимого мира, посредством которого высшая реальность, лежащая за пределами нашей видимости и нашего понимания, что-то открывает о себе и о нас на доступном нам языке. И без этого символа христианство обойтись не может. Здесь Тиллих ближе к Аверинцеву, чем к Швейцеру: Аверинцев не раз говорил о важной роли символов в религии и культуре[18], у Швейцера же эта тема отсутствует.
Согласно Тиллиху, Иисус Христос – это Новое Бытие, охватывающее оба уровня бытия человека (до и после грехопадения). Это бытие в условиях существования человеческой личности, но такое, которое не подчиняется этим условиям и преодолевает образовавшийся в результате грехопадения разрыв между сущностью и существованием. Соучаствуя в Новом Бытии, мы тоже сможем преодолеть этот разрыв и восстановить наше единство с Богом. В этом и состоит спасение. Правда, полностью оно осуществится лишь в конце истории, а до тех пор будет только временным и фрагментарным.
В отличие от Швейцера, к новой интерпретации христианства Тиллиха побуждало не открытие новых исторических фактов, а понимание глубоких различий между нашей современной культурой и эллинистической культурой начала нашей эры. В эллинистической культуре понятие «природа» было всеобъемлющим, охватывающим и людей, и богов. В нашей культуре это не так. Поэтому применительно к Богу мы употребляем слово «природа» в значении «сущность», понимая под сущностью то, что делает Бога Богом. Тогда к природе Бога в современном понимании относится то, что он находится «по ту сторону» или «выше» оппозиции «сущность-существование». Однако Иисус из Назарета не находится по ту сторону сущности и существования. Поэтому термин «божественная природа» нельзя сколько-нибудь осмысленно применить к Христу[19].
В 50-х годах прошедшего века, когда писалась «Систематическая теология», исход полемики с выводами Вайса и Швейцера был еще не ясен. Поэтому Тиллих подчеркивает, что его христология не зависит от фактов, касающихся исторического Иисуса. Он соглашается с критикой предшествующих исторических исследований в книге Швейцера «История изучения жизни Иисуса», но о выводах самого Швейцера говорит уклончиво: «Его собственная конструктивная попытка была скорректирована»[20]. Тем интереснее, что сегодня, задним числом, мы можем утверждать: христология Тиллиха не противоречит выводам Швейцера. По Тиллиху, единство божественного и человеческого во Христе обеспечивается не ипостасным соединением природ, а тем, что Христос, не утрачивая изначальной человеческой сущности, т.е. своего единства с Богом, полностью вовлечен и в человеческое существование. За время своей земной жизни он проходит через сомнения, искушения, бездомность, тревогу перед лицом предстоящей смерти, даже через чувство богооставленности. Все это – следствия конечности Иисуса Христа как человека. К числу этих следствий относится и его способность заблуждаться, в частности – относительно будущих событий. Таким образом, учение о Христе как о Новом Бытии полностью согласуется как с традиционным евангельским образом Иисуса Христа, так и с его корректировкой в соответствии с выводами Вайса и Швейцера.
В Новое Бытие человек вовлекается действием Святого Духа, который понимается как реальная сила, переводящая человеческий дух в новое состояние. Это состояние проявляет себя как вера и любовь. Причем эти слова понимаются не в их обыденном смысле. Каждое из них обозначает некую духовную реальность с достаточно сложной структурой. Например, вера – это состояние предельной заинтересованности в безусловном, бесконечном, абсолютном, ее необходимыми элементами являются сомнение и мужество, она имеет динамику и т.д. Любовь – это не чувство, а реальная сила, которая создает мотивацию для добровольного исполнения нравственного закона и дает мудрость, необходимую для применения общих норм этого закона к конкретным ситуациям. Не случайно каждому из этих двух понятий Тиллих посвящает отдельную книгу[21]. Такое понимание воздействия Святого Духа на человеческий дух, безусловно, можно назвать мистикой. Тем не менее, возникшее в результате этого воздействия состояние человеческого духа поддается достаточно точному описанию. Поэтому мистика Тиллиха, как и мистика Швейцера, лежит в русле новой рациональности.
Богословские построения Тиллиха могут показаться излишним теоретизированием. Не заходит ли он слишком далеко в попытке рационального понимания непостижимой тайны, о которой говорит Швейцер? Простой пример показывает, что это не так, что «богословская теория» Тиллиха имеет прямое отношение к религиозной практике. По словам православного историка и религиозного мыслителя Георгия Федотова, в православии «мораль считалась – и считается – делом нужным, социально полезным, но пресным, скучным и не имеющим ничего общего со спасением»[22]. Федотов такое отношение к морали не одобряет. Однако в богословии Тиллиха для него как будто бы можно найти некоторое основание и оправдание. Действительно, в церковной жизни с таинствами, молитвой и постами верующий стяжает Дух, т.е. достигает такого состояния своего духа, в котором, согласно Тиллиху, с необходимостью присутствует и любовь к ближнему. Таким образом, любовь к ближнему хотя и не нужна для спасения, но приобретается на пути к спасению как бы автоматически. Однако мы видим, что в реальной жизни так получается далеко не всегда. Не секрет, что у многих православных любовь к православию гармонично сочетается с ненавистью к его врагам (как правило, воображаемым) и уверенностью в том, что «добро должно быть с кулаками». При этом искренность их веры сомнений не вызывает. Благодаря Тиллиху мы понимаем природу этого явления. Дело не в ошибочности утверждения, что вера и любовь нераздельны[23]. А в том, что вера чаще всего понимается не как описанное Тиллихом сложное состояние духа, а в расхожем, обыденном смысле: как уверенность в правильности некоторого набора вероучительных формул. Такая вера действительно может существовать отдельно от любви.
***
Все, что не относится к православию и католичеству, считается у нас протестантизмом. Но ни Швейцер, ни Бультман, ни Тиллих на самом деле не укладываются ни в одно протестантское вероисповедание. В этом смысле богословие, в котором заметно присутствие новой рациональности, можно назвать надконфессиональным. Хотя элементы новой рациональности (например, отказ от буквализма в понимании Библии, понимание символического характера богословских терминов) проникают и в традиционное конфессиональное богословие. Но это отдельная тема, выходящая за рамки настоящей статьи.
По мнению Швейцера, «тот, кто мыслит, свободнее относится к традиционной религиозной истине, чем тот, кто не мыслит; но ее глубокие и непреходящие основы первый усваивает намного лучше второго»[24]. Я прекрасно вижу разницу между собой и Швейцером и потому никогда не рискну утверждать, что один способ религиозного восприятия глубже или лучше другого. Когда мы говорим «лучше», необходимо уточнить: лучше для кого? Очевидно, что большинство людей не любит и не хочет думать о вещах, выходящих за рамки повседневной жизни, и в таких вопросах предпочитает верить авторитетному мнению. Но некоторые, напротив, не могут не думать. Для многих непереносима сама мысль о том, что их вера, возможно, не является единственно правильной, и что в каждой вере есть своя правда. Но кому-то это кажется вполне естественным. И первые, и вторые, и третьи имеют одинаковое право считать себя христианами, Христос открыт для всех. И здесь самое время вспомнить о той отличительной особенности новой рациональности, о которой говорил Аверинцев: она создает среду для подлинного общения. В парадигме «православие или ересь», когда только одна интерпретация христианства считается истинной, а все остальные – ошибочными, диалог, общение невозможны. Новая рациональность в богословии открывает путь к диалогу – во-первых, в силу своей «надконфессиональности»; во-вторых, потому что она неизбежно приводит к появлению целого спектра интерпретаций христианства и все эти интерпретации признает допустимыми.
Шагом на пути к диалогу можно считать и возникшее в последние десятилетия в западной патрологии и медиевистике понимание того, что между восточным и западным богословием ни в святоотеческий период, ни в средние века невозможно провести четкую границу; что между ними нет принципиальных различий, и говорить можно лишь о попытках увидеть одну и ту же непостижимую реальность под разными углами зрения. С этим согласны и наши ведущие патрологи и историки христианства. И в этом тоже можно усмотреть влияние новой рациональности, о которой говорят Сергей Аверинцев и Ольга Седакова[25].
[1] Ольга Седакова. Апология разума. М., 2011. С.141.
[2] Там же, с. 149.
[3] Пауль Тиллих. Систематическая теология. Том 1-2. М. – СПб., 2000. С. 79-88.
[4] А. Швейцер. Жизнь и мысли. М., 1996. С. 132. К реальной политике в духовной сфере Швейцер относит, в частности, философию ценностей и прагматизм, утверждающий, что «любая идея, которая помогает мне жить, истинна» (там же, с. 486).
[5] Там же, с. 174.
[6] С.С. Хоружий. О школах мистики и культуре полемики //Вопросы философии, № 8, 2012. С. 166-176 // http://vpphil.ru/.
[7] С.С. Аверинцев. Мистика // Новая философская энциклопедия. Том 2. М., 2010. С. 579-580.
[8] Апология разума. С. 72-73.
[9] Там же. Хотя Аверинцев в данном случае едва ли употребил бы слово «мистическое».
[10] Жизнь и мысли. С. 145.
[11] А.Чернявский. Исторический Иисус и христианское богословие // Э.П. Сандерс. Иисус и иудаизм. М., 2012. С. 599-603.
[12] Там же, с. 596-599.
[13] Именно эта редакция, приведенная у Луки, считается первоначальной. Нищие – это библейский термин, обозначающий всех притесняемых и отчаявшихся.
[14] А. Швейцер. Мистика апостола Павла // Христос или закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. М., 2006. С. 343.
[15] Жизнь и мысли. С. 172-173.
[16] Там же, с. 467.
[17]A. Schweitzer . Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Ausgew. Werke. B. 3. S. 887. Berlin, 1971.
[18] Апология разума. С. 155.
[19] Систематическая теология. Том 1-2. С. 416-417.
[20] Там же, с. 377.
[21] Одна из них переведена на русский язык: Пауль Тиллих. Динамика веры // Пауль Тиллих. Избранное. Теология культуры. М., 1995.
[22] Г.П. Федотов. В защиту этики // Г.П. Федотов. Собр. соч. Том II. М., 1998. С. 320.
[23] Аналогичные утверждения можно найти и в святоотеческой литературе.
[24] Жизнь и мысли. С. 143.
[25] Вспоминаются слова Аверинцева на одной конференции, посвященной Владимиру Соловьеву: «Общаясь с католиками, я всегда говорю им: оставайтесь католиками, тогда нам с вами будет о чем разговаривать. Если вы перестанете быть католиками, нам не о чем будет разговаривать».
Опубликовано на www.bogoslov.ru от 1 ноября 2012 г.
Адрес в Интернете: http://www.bogoslov.ru/text/2925582.html
У каждого свой жук. Рецензия на книгу Гиренка Ф.И. Литературная газета. 2010
У каждого свой жук. Рецензия на книгу Гиренка Ф.И. Литературная газета. 2010
У каждого свой жук
Фёдор Гиренок. Аутография языка и сознания. – М.: МГИУ, 2010. – 247 с. – (Современная русская философия).
Книга посвящена философским проблемам сознания. Автор возражает против биологизации философского дискурса и задаётся вопросом, что является определяющим для сознания – приспособление к миру или самоограничение человека? Функция отражения или функция воображения? Нуждается ли сознание в языке или язык – это явный враг сознания? Одним из характерных примеров, на которых рассматриваются эти и многие другие проблемы, автор выбирает аутизм. «Дети-аутисты иногда овладевают речью, но некоторые остаются мутичными. В речи аутисты не используют местоимение «я». Вместо него они говорят «ты» и «он». Устранение из речи «я» радикально её меняет. Поскольку «я» – это пустое слово, постольку оно способствует движению, обмену мыслями в языке. А поскольку его нет, постольку нет и места для движения мысли. А это значит, что место мышления занимает созерцание».
Точно так же на примере иных психических отклонений и душевных болезней автор анализирует всевозможные чувства и явления. «Что такое любовь? Любовь – это чувство… социально приемлемое неистовство, укрощённая мания… Блейер говорит, что у любви есть символы, знаки, то, что представляет любовь. И все нормальные люди понимают, что, например, огонь, горение – это символ любви. Но все также понимают, что любовь – это не огонь… Для кого же в современном мире любовь остаётся неистовством, манией? Для шизофреников. Почему? Потому что шизофреники ни в грош не ставят знаки. Они не понимают референций и представлений… От чувства любви шизофреник получает ожоги, он сгорает, а не делает вид, что горит…» Одним словом, осторожнее со словами, дорогие читатели, помните об их изначальном значении и о том, что слово – аутическая коробка, в которой «у каждого сидит свой жук».
Опубликовано в «Литературной газете» №27 от 07.07.2010 в рубрике «Книжная дюжина»
Адрес в Интернет: http://www.lgz.ru/article/N27–6282—2010-07-07-/U-kazhdogo-svoy-zhuk13296/?sphrase_id=413151
Сумеречный лес. Рецензия на книгу Гиренка Ф.И. НГ-Экслибрис. 2010
Сумеречный лес. Рецензия на книгу Гиренка Ф.И. НГ-Экслибрис. 2010
Сумеречный лес
Федор Гиренок. Аутография языка и сознания. – М.: МГИУ, 2010. – 248 с.
Читать книгу лучше всего с конца, а именно с последнего абзаца: «Начиная писать эту книгу, мне казалось, что я понимаю кое-какие вещи. Заканчивая работу над ней, я понимаю, что оказался в сумеречном лесу, выбраться из которого нет никакой возможности». И вы там окажетесь. Главное – не паниковать. Данте тоже однажды заблудился в этом лесу, если не ошибаюсь, утратив правый путь во тьме долины. И ничего – выбрался.
Многие заблудились, но мало кто в этом признается. Федор Гиренок признается, хотя это и неразумно. Впрочем, человеческий разум, согласно Гиренку, – это «вторичное следствие встречи реального с абсурдом, ибо первичное следствие состоит в безудержном сумасбродстве иллюзий, освобожденных абсурдом от гнета инстинктов».
Ничто в мире не желает встречи с абсурдом, ибо абсурд сопряжен с непереносимой интенсивностью жизни. Тот, кто уклонился от встречи с абсурдом, оказывается, безусловно, разумным, но не мыслящим существом. Когда же наш ум, наконец, слагает свои полномочия перед абсурдом, мы без поводыря вступаем в мир грез и галлюцинаций. И начинаем мыслить аутистически.
«Кто мыслит аутистически? Мальчик, который скачет на палке и воображает себя генералом. Девочка, играющая в куклы. Если из ее игры убрать аутизм, то от куклы останется кусок дерева. Аутистически мыслит артист, когда он выходит на сцену, чтобы сыграть роль Гамлета. Аутистически мыслит верующий, который идет в храм, а также художник, который ловит неуловимое на своем полотне. Аутистически мыслит любой человек, когда он решает уйти в себя из внешнего мира, а также когда он видит сны».
Продолжим этот ряд: аутистически мыслит профессор Гиренок, когда опровергает концепции «новых натуралистов» в антропологии (к ним Гиренок причисляет Джека Палмера и Линду Палмер, Стивена Пинкера, Дэниэла Деннета, Юрия Монича и других)…
Читайте, погружайтесь в галлюцинаторный хаос и освобождайтесь от гнета инстинктов.
Опубликовано в «НГ-Экслибрис» от 23.12.2010
Адрес в Интернет: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2010-12-23/7_twilight.html
Смирнов А. Рецензия на книгу Мартынова В.И. Газета Завтра. 2009
Смирнов А. Рецензия на книгу Мартынова В.И. Газета Завтра. 2009
АПОСТРОФ
Владимир Мартынов. Пёстрые прутья Иакова: Частный взгляд на картину всеобщего праздника жизни. — М.: МГИУ, 2008. (Серия “Современная русская философия”, №2). — 140 с.
Если мне не изменяет память, несколько лет назад Мартынов и Фёдор Гиренок полемически схлестнулись на страницах журнала “Критическая масса”. Согласно многолетней дурной традиции гуманитарного сообщества, такое “столкновение” могло окончиться чем угодно, вплоть до драки при встрече. Но здесь обернулось продолжением диалога и публикацией полемического сочинения.
Тексты серии “Современная русская философия” (совместный проект издательства Московского государственного индустриального университета и МГУ; Гиренок окормляет серию в ранге научного редактора) неброские, но меткие. Не остался незамеченным первый выпуск — работа Натальи Ростовой о феномене юродства. Думается, подобная судьба ожидает и новую книгу Владимира Мартынова “Пестрые прутья Иакова. Частный взгляд на картину всеобщего праздника жизни”.
Владимир Иванович Мартынов, которого заслуженно именуют “одной из ключевых фигур современной музыкальной культуры”, никогда не ограничивал себя размышлениями исключительно в музыкальном пространстве. В итоге его выводы вызывали и вызывают недовольство и у философов, и у композиторов. Первых порой не устраивает то, что Мартынов для обоснований привлекает философские имена и категории (хотя поднятые им темы, очевидно, перекликаются с проблемами современной философии), вторых обламывает своеобразный “приговор” композиторству, что, впрочем, по мысли Мартынова, совсем не означает конца музыки. После прочтения данной книги не исключено, что к композиторам прибавятся и писатели, ибо основная тема, на которую нанизываются эссеистические заметки, звучит следующим образом: “О конце времени русской литературы”.
Непросто определить жанр данного произведения. Композиция книги в чём-то близка произведениям Мартынова-композитора. “Это такие комментарии к тексту, которого как бы нет. Столкновение личной оценки со сверхличным, в котором мы находимся”.
“Пёстрые прутья Иакова” продолжают мартыновские исследования состояний современной культуры. При этом несколько неожидан доверительно-исповедальный тон повествования. Сам текст можно растащить на афоризмы (“В поколении, изначально обучающемся письму шариковыми ручками, уже никогда не сможет появиться великий поэт”) и впечатляющие тезисы, каждый из которых может превратиться в масштабное исследование.
Мартынов рассматривает “особенности визуального и вербального аспектов действительности, а также специфику их воздействия на наше сознание”. В обращении к библейской притче о прутьях Иакова — для Мартынова принципиальна значимость “периферийного зрения”, формирующего культурную ситуацию.
“Национальная идея — это всегда дискурс, это всегда идеология. Национальная судьба — это то, что невозможно сформулировать словами, это то, что невозможно высказать, ибо национальная судьба есть не что иное, как внесловесное, вневербальное пребывание в реальности… Национальная судьба может явить себя только в некоем невербальном знаке, подобно гексаграмме. Национальная судьба — это иероглиф… Национальная судьба наличествует всегда и во всём, независимо от того, существует или не существует соответствующая ей национальная идея”
В повествовании о циклах русской литературы, в анализе “противостояния иконоцентричности и литературоцентричности”, в подробном разборе утраты традиционного ландшафта Москвы Мартынов привычно бескомпромиссен — многое из того, что доселе казалось абсолютным, в его оптике оказывается порождением эпохи.
Но ощущение неких последних рубежей совсем не означает полного занавеса. “Конец времени русской литературы” фиксирует факт ухода литературы как своеобразной “светской неконфессиональной религии”. В той же современной нам литературе царит глобальная неразбериха. Как недавно зло заметил Лев Данилкин: “…Можно объявлять Проханова модернистом, Пелевина постмодернистом, а Алексея Иванова постреалистом, но все эти искусственные категории дают только иллюзию понимания писателя и ничего, на самом деле, не описывают. Более того, многие очень большие нынешние писатели — Мамлеев, Микушевич, Пепперштейн, Шаров — вообще не влезают в традиционную, устроенную в соответствии с западным каноном сетку координат — и тогда их либо игнорируют вовсе, либо присваивают самые дурацкие бирки”. И может быть проблема в том, что, имея новый контекст, мы упрямо и безнадёжно пытаемся работать с понятиями, которые принадлежат иной ситуации, основания и содержание которой практически уже синонимичны выжженной земле.
И прозвучавшая ранее, но во многом не услышанная формула о том, что феномен композиторства не тождественен музыке, и новый этап можно рассматривать как начало высвобождения возможностей, подавляемых доселе, работает и в литературном, и в общекультурном контексте. Мартынова интересует поиск адекватных стратегий осмысления реальности, актуальных форм художественного высказывания, возможности нового сакрального пространства. Ведь конец одного времени всегда может стать началом нового эона.
Опубликовано в газете «Завтра» №23 от 3 июня 2009
Адрес в Интернет: http://old.zavtra.ru/content/view/2009-06-0373/
Ростова Н. Апостроф. Рецензия на книгу Варавы В.В. Газета Завтра. 2013
Ростова Н. Апостроф. Рецензия на книгу Варавы В.В. Газета Завтра. 2013
Апостроф
Владимир Варава. Неведомый Бог философии. М.: Летний сад, 2013, 256 с.
Что такое философия? Ответу на этот не простой для философии вопрос посвящена новая книга Владимира Варавы, изданная в рамках серии “Современная русская философия”. Сразу стоит отметить, что философия имеет целую традицию ответа на этот вопрос. От Платона до Боэция, от Канта до Хайдеггера. От Делеза, Гваттари и Бадью до нашего современника Онфре. В России — от знаменитой переписки Лосева и Мейера до Мамардашвили и одной из последних работ Гиренка. Как скажет Мартин Хайдеггер, понятие философии — самый высокий результат ее самой. И вот философ В. Варава рискнул на такую дерзость — представить высший результат философии. Что же у него вышло?
Первое впечатление от книги — это ее удивительная несовременность, что вовсе не означает ее несвоевременности или неактуальности, совсем наоборот. Например, понятие истины сегодня скомпрометировано. Истины нет, есть множество истин. Делез и Гваттари скажут: философия — это концепт, поименованный сгусток смысла, как монады Лейбница или когито Декарта. И истина здесь не при чем. Бадью согласится — да, философия не есть производство истин, но поправит — философия не есть производство содержательных истин. Содержательность истины в философии ведет к фашизму, сталинизму, террору, в чем оказался грешен “поздний” Платон, который начал с апологии Сократа, а закончил тем, что стал осуждать тех, кто “растлевает молодёжь и не чтит традиции”. Истина философии принципиально иная, нежели все другие истины. Философия — это пустота истины, “клещи истины”, которые схватывают содержательные истины науки, политики, искусства и любви и делают возможным их сосуществование, обеспечивая единство мысли. Философия должна придерживаться этой пустоты и не превращаться из рациональной операции в “сомнительный путь некоей инициации”. А В. Варава в своей книге, не стесняясь, призывает к этой “инициации”. Для Варавы истина есть, и она, как и подобает быть истине, единственна и абсолютна. И эта истина находится “в ведении философии” (с.60).
Обычно истину отдают в ведение традиции. Так, например, Мейер, споря с Лосевым, отождествил истину с истиной Христа. Варава же и здесь делает неожиданный ход, сопротивляясь не только принятым европейским взглядам, но и пытаясь переосмыслить русскую традицию. Варава не просто заявляет о том, что философия не нуждается в христианстве, но говорит о том, что само христианство нуждается в философии, дабы не превратиться в частный опыт или суеверие (с. 67). Варава верит в порядочность человека, обеспеченную приверженностью к философии. Но хочется, вспоминая слова Бердяева о том, что абсолюту молиться нельзя, спросить В. Вараву: а можно ли молиться истине?
Или другой момент. Современная философия имеет натуралистическую тенденцию, которая ведет к представлению об “имманентном человеке”, основанному на линейной логике, согласно которой от мира до человека и, обратно, от человека до животного и мира можно прийти непрерывными преобразованиями. Варава же идет путем “логики разрывов”. Для Варавы человек — это разрыв в мире. И об этом разрыве свидетельствует человеческая способность к философствованию, основанная не непсихологической способности к философскому удивлению (с.10). Наличие этого фундаментального свойства оправдывает наречение человека Homo philosophicum.
Или еще, современный мир говорит нам — будь быстрым, соображай, думать некогда и не нужно. Есть машины, системы, всемирная информационная сеть, а ты должен лишь уметь ориентироваться. Следствием этого в нашей стране, в частности, стало лишение философии статуса обязательной дисциплины в высших учебных заведениях, а также замена “кандидатского” экзамена по философии экзаменом по философии и методологии науки. Варава же говорит — философия должна быть в моде, иначе человек будет редуцирован до сущности в ряду других сущностей мира.
Как же Варава отвечает на главный вопрос книги? Делает он это не без ссылок на Хайдеггера, через тавтологию.
Философия — это философствование (с. 46). Можно ли счесть подобный ход интеллектуальным мошенничеством? Скорее нет, ибо Варава не просто отсылает к самоочевидностям и апофатике опыта, но делает и прояснения. Философия — это не просто феномен культуры, форма теоретического познания, появившаяся в Древней Греции, философия — это свет, который позволяет нам видеть. “Мы не видим света, в свете которого видим мир”, — скажет Варава (с. 70). Философия, как солнце, делает нечто возможным и, вместе с тем, для глаза она предстает черным пятном. Философия — это не то, “что”, но то, “чем”: то, посредством чего что-то становится возможным.
Такой взгляд на философию позволяет Вараве говорить о русской философии, история которой оказывается равной истории самой Руси и русского народа. Однако же появление языка русской философии Варава связывает с А. Пушкиным и Д. Веневитиновым, которые предопределяют судьбу русской философии как русской литературы. Отчасти это оказывается справедливым и в отношении самого В. Варавы, некогда написавшего “Псалтырь русского философа”.…
Опубликовано в газете «Завтра» 24 октября 2013 года в рубрике «Апостроф»
Адрес в Интернет: http://old.zavtra.ru/content/view/apostrof-76/
Пять книг недели. Рецензия на книгу Ростовой Н.Н. НГ-Экслибрис. 2008
Пять книг недели. Рецензия на книгу Ростовой Н.Н. НГ-Экслибрис. 2008
Наталия Ростова. Человек обратной перспективы. – М.: МГИУ, 2008. – 140 с. (Cовременная русская философия). ISBN 978-5-2760-1597-2
Кто такие юродивые? И что заставляет юродивых юродствовать? Этими вопросами задавались многие исследователи, однако философы до сих пор обходили их вниманием. В книге аспирантки философского факультета МГУ Наталии Ростовой (р. 1982) впервые предпринята попытка философского прочтения юродства Христа ради. Анализируя феномен на материале житий святых, автор обращается к таким проблемам, как человек и его сознание, самость, Я и Бог, внутренний опыт и роль Другого в его формировании, культ и самоактуализация, ум и безумие.
Опубликовано в «НГ-Экслибрис», 14.08.2008. Рубрика «Пять книг недели»
Адрес в Интернет: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2008-08-14/1_books.html