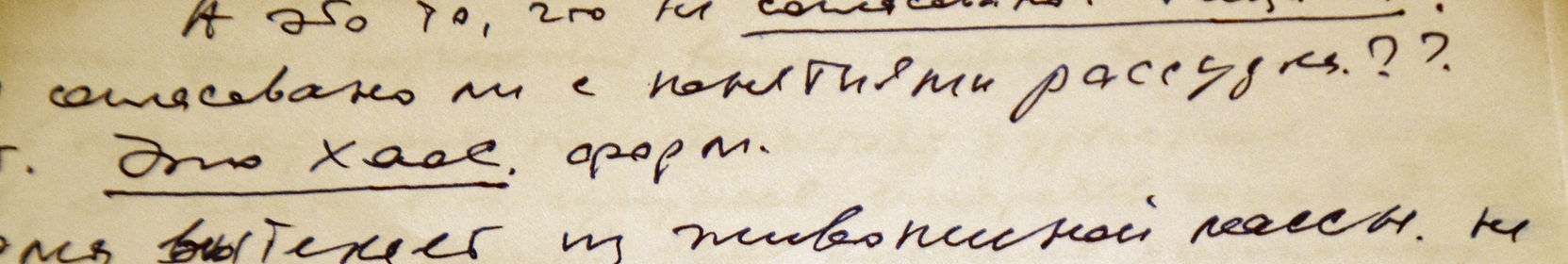Новые приключения лица на песке
Автор текста:
Владислав Карелин
Место издания:
«Синий диван» № 16, 2012
Посредственность как социальная опасность: сборник. М.: «Магистр», 2011. – 112 с. – (Серия «Современная русская философия»; № 6). – Тираж 500 экз.
Жан-Мари Шеффер. Конец человеческой исключительности. Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: «Новое литературное обозрение», 2010. – 392 с. – Тираж 2000 экз.
Введение новой терминологии – один из самых эффектных шагов, который может сделать автор философского или околофилософского труда, и, наверное, поэтому столь любопытным кажется название сборника «Посредственность как социальная опасность». Слово «посредственность» известно всем, но здесь оно приобретает особую окраску, становясь полноправным элементом академического дискурса. Эта книга содержит одноименный текст лекции 2005 года известного российского филолога, поэтессы и переводчицы Ольги Седаковой, а также ряд статей, обсуждающих затронутую проблематику.
Попытка представить на всеобщее обозрение феномен посредственности потребовала немалой смелости, и дело не только в «острых углах» темы, но и в том, что предлагаемая проблема сама по себе неудобна для обсуждения: у нее нет «начала» – нельзя сказать, что в истории культуры накоплен большой систематический опыт в обсуждении этой проблемы, у нее не видно и «конца» – сложно уверенно предположить, к каким итогам приведут (и могут ли привести вообще) размышления над ней.
«“Посредственность” – это отнюдь не “обыкновенный человек”, “рядовой человек”, как еще его называют, т.е. тот, кто не отмечен какой-то исключительностью», – сразу уточняет О. Седакова (с. 11). Напротив, как она обнаружила в записках Бориса Пастернака, посредственность – это необыкновенное, «посредственность паразитирует на необыкновенности, культ необыкновенности – это созданный ей культ», посредственность «гнушается рядовым делом» (с. 11).
Размышляя о посредственности, О. Седакова приходит к выводу о том, что понимание этого феномена может опираться на этимологию, но трактовать его как нечто «среднее» неверно, и предпринимается несколько неожиданный ход за счет противопоставления посредственности и непосредственности. Через это сравнение демонстрируется не стремление к нейтральной середине, а наличие фактора опосредования. Посредственность тем самым показывает в себе «“опосредованное”, не прямое, не простое, не “первое”, не совсем “настоящее”» (с. 11). Таким образом, «прямота и простота отношений – вот чего не знает посредственность» (с. 11–12).
Основополагающий момент интерпретации посредственности заключается в поиске особого потенциала данного феномена, который, как это представлено в заглавии, воплощается в социальном и, в частности, в политическом. Политическое О. Седакова рассматривает в контексте тоталитарного порядка: «…когда зло <…> принимает откровенно инфернальные формы, а страдания превосходят все меры (при Гитлере в Германии и при Сталине у нас), тогда союз со злом или даже мирное сосуществование определенно делают для человека невозможной встречу со своим внутренним миром, с его “старой правдой”. Доступ к ней оказывается закрыт. Мы это знаем по судьбе многих художников и мыслителей, которые выбрали конформистскую позицию, и плод ее был сразу же очевиден: они утратили творческий дар, они ничего общезначимого сказать уже не могли» (с. 19). Трудно полностью согласиться с такой идеей. Можно найти множество примеров, когда художники были вынуждены сотрудничать с властью, вряд ли после этого существенно потеряв что-то в своих творческих способностях (внутренних «этических потерь» касаться не будем). Конечно, такая драматическая перемена заметнее всего в творчестве тех, кто отказывался от авангардных методов – которые властному официозу могли казаться невнятными и небезопасными – и уверенно до конца своей жизни вкатывался в колею нормативного реализма. Если говорить о тех, кому приходилось под жесточайшим физическим или психологическим гнетом давать ложные показания, клеветать на коллег, друзей или же делать «признания» в собственной антирежимной деятельности, то число таких людей было большим; но ситуации такого рода могли быть обусловлены не этикой или экзистенциальным выбором, а едва ли не биологией: экстремальный опыт столкновения с репрессивной машиной в той или иной мере физиологичен. Несомненно, что выжившему после такого происшествия писателю оставалось привычную работу делать в стол, ограничивать круг общения и т.п., но с точки зрения персонального жизненного опыта все это могло оказать в большей степени воздействие продуктивное, нежели деструктивное.
Можно предположить, что указанная идея выбора согласия или несогласия с властью проистекает из утверждения о том, что «каждый человек оказывается или участником истории, или ее жертвой» (с. 18). Однако такой взгляд сейчас часто подвергается сомнению. Так, в современной исторической теории, исследующей сталинский террор, существует достаточно мощное течение – так называемая ревизионистская школа, представители которой (Дж.А. Гетти, Ш. Фицпатрик, О. Наумов, С.Р. Дэвис и др.) нередко говорят, что сталинский режим создавался не только властителями, но и гражданами, роль которых не обязательно была пассивной: в таком непростом историческом контексте граница между жертвой и преследователем весьма зыбкая.
Посредственность, которая интересует Седакову, – это не новая категория; это не что иное, как определение человеческого типажа. При этом внимание сконцентрировано именно на тех посредственностях, которые представляют социальную опасность, и это не человек, обделенный дарованиями или находящийся внизу социальной лестницы (с. 37). «Я называю так прежде всего человека паники, панического человека, человека, у которого господствующим отношением к реальности является страх, недоверие и желание построить защитные крепости “от жизни” на каждом месте (схемы, “принципы”, “идеи”, все готовые, опосредованные формы – это разновидности таких крепостей), – разъясняет О. Седакова. – <…> Мне интереснее думать о посредственности в контраст “непосредственности”: как о нежелании и неспособности к прямым, неопосредованным, “своим лично” отношениям с миром» (с. 37). Но как быть с той границей, которая разделяет человека и окружающий мир? Ведь она является не простой тонкой линией, а целым пространством, в котором происходят процессы символизации, обеспечивающие связь человека со средой. Если же субъект полагает, что его восприятие реализуется в точности с наличными условиями, то не оказывается ли он пресыщенным здравым смыслом самодовольным «бюргером», который как раз и олицетворяет идеального «среднестатистического человека», любые сомнения в непосредственности которого выглядят лишь игрой слов?..
Однако тут, на наш взгляд, нет противоречия. Позволим себе предположить, что позиция О. Седаковой по своей структуре религиозная: в более четком и прямолинейном изложении, но с разными обертонами ее можно найти и в христианской концепции теозиса (обожения), и в иудейско-каббалистическом представлении о тиккуне (исправлении), и во многих других духовных системах. Иначе говоря, речь идет о динамических состояниях, которые описываются как статические, то есть о проектах человека в перспективе духовного развития. Таким образом, отсутствие опосредования в данной концепции может имплицитно подразумевать прямую связь с божественным началом. Эта интерпретация кажется весьма вероятной, если помимо прочего учесть глубокий интерес О. Седаковой к богословию. Такой подход снимает впечатление некоторого снобизма, традиционно связывающегося с общепринятым упоминанием «посредственности» («Слово с ярко выраженной экспрессивной (негативной, иронической) окраской. Если Вы допускаете экспрессивные выражения в Вашем тексте, отключите эту опцию», – рекомендует текстовый редактор «MicrosoftWord»).
В чем же заключается опасность посредственности? О. Седакова выделяет несколько сторон проблемы: во-первых, абсолютная манипулируемость такого человека («простой человек – тот, которым может оперировать пропаганда» (с. 21)); во-вторых, стремление к предельной герметизации мира, защищающей от всякого риска столкнуться с чем-либо непредсказуемым; в-третьих, его бегство от того, что можно назвать «гуманитарным творчеством» и «человеческой жизнью». Пытается исследователь обрисовать и антиутопическую картину цивилизации, достигшей полного торжества посредственности, где самой главной ценностью – и угрозой – становится фанатизм.
В целом посредственность с ее опасными чертами похожим образом описана в известной работе Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», с той разницей, что он делал акцент не на индивидуальности, а на массе, соответственно указывая на бóльшие социальные притязания: «Масса – это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не социальный сдвиг, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и повсюду»[1].
Вторая часть книги состоит из статей, обсуждающих тему посредственности. Неизвестно, какое «задание» получили авторы этих текстов – сыграть роль комментаторов или оппонентов. Однако заметно, что их позиции скорее критические или, по крайней мере, мало ориентирующиеся на центральный текст.
Федор Гиренок в эссе «О естественном праве человека быть банальным» не стал следовать за рассуждениями О. Седаковой и сосредоточился на идее, вынесенной в заголовок: «Быть банальным – это естественно». Опираясь на собственный тезис «банальный человек находится посредине между полюсами» (с. 45), Ф. Гиренок рассмотрел, как проявляет себя категория банальности, соответствующая посредственности, при взаимодействии с другими категориями: «оригинал», «дар», «мещанин», «право», «ноль», «поза», «пустота» и т.д. Такой подход очень напоминает наивность, характерную для ранней античной мысли, которая чувствовала необходимость и зарождение в себе самой некоего знания (философии), конструируя систему представлений об окружающем мире из подручного материала – иных представлений, также еще концептуально не кристаллизовавшихся.
Вячеслав Дмитриев и Ирина Дмитриева в статье «Посредственность: ярлык, концепт или посредник (трансформации идеи посредственности в философии)» попробовали проследить изменения, которым подвергалось понимание посредственности в философской мысли. Может показаться странным, что при этом авторы не упоминают никаких персоналий или философских школ, то есть говорят о «философии вообще». Такого рода стиль размышлений встречается, как известно, довольно часто, и его вряд ли можно считать удачным. Однако его необходимость продиктована тем, что проблематика посредственности раньше широко не обсуждалась в философии, а если и могла обсуждаться, то лишь мимоходом, проникая в попутные или случайные рассуждения, так что некий «наивно-античный» взгляд в таких условиях, похоже, пока что неустраним. Строго говоря, это нельзя назвать недостатком данного текста, если согласиться с тем, что высказанные в нем тезисы могут быть представлены не более чем гипотетически (наиболее занятная из таких гипотез – догадка о происхождении посредственности из метафизики: «…именно наличие метафизики в составе творческой философии как раз и провоцирует мыслителей на включение ими в свой концептуальный строй идеи посредственности» (с. 62), ведь именно метафизика, как считают авторы, утверждает привилегированные смыслы и исключает смыслы, которые заносятся ею в разряд недостойных внимания, то есть посредственных).
Стремление к превращению «посредственности» в философскую категорию и даже к ее онтологизации выглядит как будто обязательным; это, вероятно, проистекает из все той же слабости самой идеи, ее пока что неоформленного состояния. (А будет ли оно оформленным, возникнет ли вообще потребность в этом – покажет время.) «Категоризация» посредственности может оказаться своеобразной интеллектуальной ловушкой – примерно на это указывает Василий Кузнецов в статье «Посредственность и опасность», полагая, что в разговоре о посредственности есть опасность попасть в поле предзаданных интерпретаций, «которые срабатывают автоматически и тут же (как в системе распознавания “свой–чужой”) по ключевым словам-индикаторам или фразам-детекторам распределяют все высказывания на “правильные” и “неправильные”, а их авторов – на “друзей” и “врагов”» (с. 71).
Небольшая статья «“В начале было слово” как оправдание посредственности», написанная известным композитором Владимиром Мартыновым, ставит под вопрос индивидуальный выбор быть или не быть посредственным, о возможности которого упоминалось в лекции О. Седаковой: «Есть времена, которые позволяют быть непосредственным, а есть времена, которые не позволяют быть непосредственным. И даже самый непосредственный человек в такие времена будет посредственным. Тут есть то, что от воли и желания самого человека не зависит» (с. 81). По мнению В. Мартынова, современность – это эпоха посредственности. Посредственный же человек, конкретизирует он в заключении, – это человек говорящий, и не исключено, что на дальнейшем эволюционном витке наступит молчание, благодаря чему человек перестанет быть посредственным, перейдя в состояние особого, активного безмолвия – наподобие того, что известно в исихазме или буддизме (с. 84).
В своем «Эскизе о повседневности» Наталья Ростова не стала придерживаться околоакадемических контуров дискурса. Вместо этого она предложила несколько маленьких набросков на тему «посредственного», «банального», «среднего», основанных на различных примерах из искусства, литературы, религии. Этот текст меньше остальных похож на исследование, но его форма – медитативная, фрагментарная – думается, более всего подходит для сочинения на данную тему.
Завершает сборник статья Петра Сафронова под названием «Хранить тайну». Именно сохранение тайны делается разгадкой к пониманию социальной стороны посредственности – вернее, не‑посредственности, выступающей в качестве главной особенности жизни современных сообществ. «Посредственность лишена тайны. Это так потому, что посредственность всегда созерцает самое себя и никогда не видит ничего другого. Посредственность верна себе и только себе» (с. 99). В сообществе же присутствует Другой, который есть источник тайны и, следовательно, не оставляет места посредственности, – такова основополагающая мысль, переплетающая «тайну», «непосредственность» и «сообщество». Соображение о большой значимости «тайны» как свойства Другого кажется нам спорным. Но еще более спорной представляется возможность «транспортировать» с помощью Другого такую идею «тайны» внутрь самого сообщества, ведь иначе, буквально через несколько логических шагов, придется признать тайный характер любого сообщества, что далеко не всегда верно, хотя и звучит соблазнительно.
В предисловии к сборнику Наталья Рябчун утверждает, что эти тексты выражают два различных взгляда: статья О. Седаковой представляет позицию «классического человека», для которой характерна уравновешенность, гармоничность и устойчивость, тогда как статьи оппонентов – позицию «человека новейшей цивилизации», «бунтующего, страдающего, неумиротворенного, неукорененного» (с. 8). Но надо сказать, что каждая из этих публикаций не отрицает самого феномена посредственности, который попыталась внедрить в академический оборот О. Седакова.
Немного раньше, в 2010 году (несмотря на то что сборник «Посредственность как социальная опасность» датирован 2011 годом, он появился в продаже на исходе 2010-го), в «Новом литературном обозрении» была опубликована книга французского философа Жан-Мари Шеффера «Конец человеческой исключительности». Эти издания не схожи ни по тематике, ни по жанру, однако между ними возникает резонанс, который помогает понять общий для них бэкграунд.
Первое французское издание работы вышло совсем недавно – в 2007 году. Основным объектом критики становится концепция, суть которой приблизительно ясна уже из самого ее названия, сформулированного Ж.-М. Шеффером: «Тезис о человеческой исключительности» (для краткости – просто «Тезис»). «Она утверждает, что человек составляет исключение среди населяющих Землю существ, а то и вообще в мировом бытии. Как нас уверяют, эта исключительность обусловлена тем, что в собственно человеческой сущности человека заложено особое, небывалое онтологическое измерение, в силу которого он превосходит прочие формы жизни и свою собственную природность» (с. 9–10). Критике подвергаются три основные формы Тезиса. Первая подразумевает отказ соотносить идентичность человека с биологической природой или жизнью; вторая провозглашает «неприродность» или «антиприродность» общественного человека; третья, характерная для ряда наук о культуре, утверждает, что идентичность человека образуется культурой, противопоставленной одновременно «природе» и «социальности».
Атака на «человеческую исключительность» отнюдь не предназначена для того, чтобы загнать человека обратно на дерево: критика нацелена не столько на объект изучения дисциплин, которые можно условно назвать антропологическими (в самом широком смысле), сколько на их познавательные претензии. Как утверждает Шеффер, Тезис невероятно живуч несмотря на многочисленные его опровержения, которые принесла наука в XX веке. На протяжении книги автор, используя широкий спектр философских концепций и данных естественных наук (в значительной мере эволюционной биологии), доказывает, что человек – это сложный биологический вид, обладающий множеством особенных черт. Однако он же убеждает читателя в том, что качественные отличия есть и у любых других видов, так что человек – это лишь «особенность» в ряду прочих «особенностей». Оспаривается как то, что принято считать специфическим в человеке (одна из главных мишеней – гносеоцентризм, собственно человеческая сущность человека в любой теоретической деятельности, в познании как таковом), так и границы, отделяющие его от прочих существ (разделение на «человека» и «животных», которое Ж.-М. Шеффер называет онтическим разрывом).
Полемика с антропологией проведена в исследовании несимметрично: согласно базисной гипотезе, устойчивость Тезису придает присваиваемый им самому себе некий эпистемический иммунитет (с. 53), однако ничего подобного в отношении естественных наук, которые можно было бы противопоставить Тезису, Шеффер не предусматривает. Впрочем, цель монографии вовсе не в уничтожении Тезиса, поскольку он выполняет «определенную психологическую и социальную функцию» (с. 323), связанную с наличием постоянного конфликта мировоззрения с эмпирическим знанием.
Увы, Шеффер обходит вниманием такое понятие, как «антропный принцип» в каких бы то ни было его вариантах. Между тем это представление радикальнейшим образом поддерживает Тезис, разрушая общепринятые сциентистские принципы, отрицающие особое значение присутствия человека во Вселенной, – и при этом развивается оно как раз в XX веке в лоне естественных наук.
По своей проблематике, по стилю аргументации монография Ж.-М. Шеффера близка к исследованиям популярных на Западе ученых Ричарда Докинза и Джея Стивена Гулда, а также работам, освещающим полемику между ними. В России же эти авторы пока что сравнительно мало известны, и, может быть, «Конец человеческой исключительности» не очень скоро найдет отклик даже в отечественной философии науки. Однако не стоит спешить встраивать эту работу именно в данную отрасль знания. Ведь хотя это произведение фактически пытается «вытеснить» человека из всякого дискурса, оно посвящено именно человеку. А способ обращения с этим самым созданием нам кажется очень близким способу, продемонстрированному в упомянутых выше текстах о посредственности. Безусловно, сочинение Шеффера и сборник о посредственности – всего лишь две точки, по которым невозможно реконструировать интеллектуальное пространство, элементами которого они могут являться. К чести авторов обеих концепций следует отметить большую убедительность их сочинений. Однако интересно выйти за их собственные рамки, чтобы обнаружить у них нечто общее.
Обе книги вращаются вокруг человеческого несовершенства. Мелодии, под которые совершают свой танец их идеи, различны: в одной мотивом служит вероятность некоторой социальной угрозы (вследствие духовной непропорциональности, вызванной – в разных интерпретациях посредственности – либо стремлением к нивелированию человеческих свойств, либо отягощением устройства психики за счет механизмов опосредования), в другой – стойкое желание групп специалистов отвести привилегированное место антропологическим интерпретациям. Эти разговоры каждый по-своему наделяют человека несовершенством, которое раньше оставалось без существенного внимания (посредственность) или постепенно вытеснялось (неисключительность). Они возвращают человеку эти свойства.
Здесь невозможно не вспомнить о пресловутой метафоре Мишеля Фуко (который, что симптоматично, не упоминается ни в одном из названных изданий), уподобляющей человека нарисованному на прибрежном песке лицу, которое должно когда-то исчезнуть[2]. Уверенность в скором конце человека в этом представлении сочетается с уверенностью в его не очень давнем появлении, и его исчезновение, похоже, происходит с тех пор постоянно, соединяясь с новыми попытками его возрождения.
Идея завершения проекта под названием «человек» не нова – мысли об этом рождаются постоянно (разве хоть какое-то поколение последних столетий не мечтало, чтобы именно его эпоха была в том или ином смысле финальной? Но о конце человека заговорили только в ХХ веке). И в то же время происходит восстановление, усердное конструирование человеческого. Обе книги посвящены специфической антроподицее: говоря о неприсущих феномену человека явлениях (о чем свидетельствуют постоянные оговорки авторов, при необходимости готовых идти на уступки), они демонстрируют их именно как человеческие. Эти шаги позволяют все четче и четче определить человека, хотя и негативным образом.
Остается теперь допустить, что это первые знаки начала (или незамеченного продолжения) новых приключений этого лица на песке. А они скорее всего окажутся непрерывной чередой стираний и прорисовок, происходящих одновременно при каждом жесте развенчания человеческой безупречности, всякий раз при этом удивительным образом подтверждающем ее существование. Быть может, последним приключением и станет бесконечное уничтожение-воссоздание этого неуловимого образа.
[1] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – В кн.: Его же. Эстетика. Философия культуры. М.: «Искусство», 1991, с. 311.
[2] См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: «A-cad», 1994, с. 404.